@ 2005-07-28 12:26:00
| Нортмер ( @ 2005-07-28 12:26:00 |
| Current mood: | 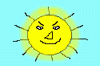 хорошее хорошее |
| Current music: | Пикник - Дай себя сорвать |
Это интересно...
Итак, я вернулся из Омска, и снова вступаю в игру. Могу сказать, что все это время, пока я бы оффлайн, я много писал от руки, и сейчас как раз все что написал переношу на компьютер. Поскольку 25 число так и наступило, я скорректировал часть своих планов, так чтобы мои герои вступили в действие до этого числа.
Перед поездкой я приобрел одну интересную книжку, которая и впрямь оказалась весьма любопытной. Она - про близкое нам время, охватывает период с 1558 по 1715 годы. Книга "Эпоха дворов и королей. Этикет и нравы в 1558-1715 гг." Филиппа Эрланже, французского историка и беллетриста, который за свои исторические труды получил целый ряд престижных премий, среди которых Grand Prix Французской академии.
Я решил выложить тексты из нее сюда. Возможно есть небольшие ошибки, я не успел все проверить.
Испанец 1560 года не только гордился тем, что владеет обширной империей; он чувствовал себя более сильным, уважаемым, более цивилизованным, более близким к Богу, чем человек, принадлежащий к другой нации; он находился в центре всеобщего внимания, он был зеркалом моды. Даже сатира подтверждала его престиж: в своих произведениях «Эмблемы деяний», «Совершенства и обычаи испанского сеньора» Симон Молард объявил его «дьяволом в своем доме, волком за столом, свиньей в своей комнате, павлином на улице, лисом с женщинами». Презирая весь остальной мир, Испания запретила своим подданным в Нидерландах учиться за границей, отозвала своих ученых докторов из Монпелье и вместе с тем служила образцом для подражания остальной Европе включая Францию, ее первого соперника.
В Париже процветала контора по переводу с кастильского наречия, остряки украшали свои речи кастильскими фразами, женщины пользовались испанской пудрой, губной помадой и духами. Все культурные люди хотели иметь перчатки только из Испании, кожу только из Кордовы, сталь только из Толедо. Испанский (серебряный) пистоль был международной валютой.
Филипп II решил создать королевство, в которое не могла бы проникнуть протестантская революция. Так автократия становилась несгибаемой, доктрины принуждения более жесткими, чем сами папы, закрепляя право монархии присвоить себе безграничную власть. Иезуиты были его вдохновителями, инквизиция — щитом.
Под влиянием воинствующего евангелизма иезуитов отступил идеал набожного затворничества. Тридцать иезуитских колледжей, открытых в Испании в тот период, когда во главе ордена стоял Франсиско Борджа, положили начало тому, что мы теперь называем средним образованием, и, хотя часто оно рассматривается как нетерпимое и сектантское, представители среднего класса получили возможность приобщиться к культуре, которая прежде была доступна лишь священнослужителям. На самого короля система обучения, разработанная иезуитами, произвела большое впечатление, и он противился только их самой напористой казуистике.
Равным образом Филипп поддерживал и непримиримость доминиканцев, и инквизицию. Эта ужасная машина была запущена в XIII веке Иннокентием III и Святым Домиником, чтобы искоренить еретическую секту альбигойцев, а с 1478 года стала неотъемлемой частью жизни испанского государства. Вальдес, архиепископ Севильи, учредил основной кодекс ее деятельности.
С этого времени нравственная жизнь нации была подчинена доминиканцам: в результате простого наговора мог быть арестован, допрошен и подвергнут пытке любой гранд или нищий. Даже инфант дон Карлос, наследник престола, должен был предстать перед трибуналом, когда рассматривался вопрос о будущих святых (Хуан Авила и Тереза Авильская, Франсиско Борджа) и проводилось расследование в отношении королевского исповедника Каванзы. Отчет о судебных заседаниях составил восемьдесят тысяч страниц.
Инквизиция преследовала морисков, маранов, евреев, колдунов, провидцев, содомитов — фактически, всех нонконформистов. Малейшего различия мнений или двусмысленности в высказываниях было достаточно, что бы привести нарушителя на костры, которые продолжа ли гореть вплоть до наполеоновских дней. Испания была страной контрастов: ее золотой век стал также веком ее черной легенды. Монастыри заполнялись верующими в ущерб светскому развитию королевства. В 1570 году чет верть взрослого населения приняла обет: в стране было 400 тысяч монахов, 312 тысяч священников и 200 тысяч священнослужителей низшего сана. Эта фанатичная и воинственная вера простиралась от мистицизма Святой Терезы до самобичевания флагеллантов; любая крайность была обычным делом.
Король считал себя ответственным лишь перед Богом; это был монарх, не признающий фактов, убежденный в непоколебимости своих принципов, невосприимчивый ко всему, что не соответствовало его внутреннему видению мира. И настолько ревнивый к чужим успехам, что предпочел скорее отказаться от плодов победы при Сен-Кантене и Лепанто, чем подтвердить заслуженную славу своих генералов.
Филипп II был затворником, скупым и скрытным, связанным всяческими предрассудками, вечно терзаемым муками совести. Не появляясь на людях, он очень много времени проводил, в кабинете за письменным столом, разбираясь в бумагах. Его вошедшее в поговорку медлительное правительство утопило общественную жизнь, как выразился кардинал Гранвела, в «потоке вязкой грязи»; Это была автократия умеряемая страхом, где (за исключением герцога Альбы) страной управляла не знать, а теологи, юристы, полицейские агенты и секретари.
Король Филипп II, сын императора Карла V, отличался простыми вкусами, о чем свидетельствуют его развлечения. Ему нравились пешие прогулки, рыбалка, охота, на которой он присутствовал в качестве наблюдателя, и сельские праздники. По просьбе королевы Анны 21 мая 1576 года примерно тридцать пастухов стригли овец в присутствии двух монархов. Смущенный народ пел песни и напивался ради веселья.
Филипп II предпочитал живопись и музыку бою быков. Его коллекция произведений искусства свидетельствует об эклектичном и оригинальном вкусе: картины Иеронима Босха соседствовали с полотнами Тициана и Эль Греко. Такие развлечения позволял себе суровый и прижимистый монарх, жизнь которого, помимо этого, была наполнена работой и таинством церемониала.
Церемониал был создан Филиппом Добрым, Герцогом Бургундскиму и возобновлен Карлом V. С 1548 года он стал важным институтом» равного которому не было ни в одной стране, пока во Франции не наступила эпоха Людовика XIV. Это было перенесение религиозного культа в светскую область, культ монарха, которому поклонялись, как идолу. Так монарх был защищен от враждебных влияний, а его подданные ценили, его сверхъестественную силу: вследствие этих двух причин он стоял в стороне от обычной жизни.
До крайности подозрительный и лицемерный, Филипп II сделал эти барьеры почти непреодолимыми. Служение ему стало таинством, отправляемым в соответствии с сакральными ритуалами. Каждый его поступок или каприз приобретал значимость государственного дела и требовал учреждения должности при дворе. Как следствие, его личная свобода была сильно урезана.
Апартаменты короля являлись святилищем. У дверей двух первых комнат, «салы» и «салеты», с восьми утра до семи вечера стояли в карауле церемониймейстеры; чтобы отказывать в приеме недостойным посетителям; В «прихожей» и «маленькой прихожей» «физиономисты» из числа стражников наблюдали за посетителями и удостоверялись, что те склоняются перед королевским балдахином. Офицеры, чиновники, священники, учащиеся и люди искусства не проникали за пределы «прихожей»; Гранды Испании, епископы, послы, государственные советники, рыцари ордена Золотого руна, Сантьяго, Алькантары и Калатравы попадали не дальше «маленькой прихожей».
Позади нее находился кабинет Его Величества. Единственными, кто допускался сюда, были нунций, кардиналы, президент Большого совета Кастилии и вице-короли. Кроме кабинета имелись спальня, гардеробная, небольшой кабинет и туалетные комнаты.
Множество высокопоставленных персон заботилось о соблюдении культа. Возглавлял их главный мажордом, по рангу следовавший сразу после президента Большого совета Кастилии. Под его руководством трудились семнадцать человек, начиная с восьми мажордомов и капитана гвардии и кончая первым королевским обойщиком. Обычные мажордомы, в основном сыновья грандов Испании, командовали другими должностными лицами в этом придворном хозяйстве. Они окружали короля, когда он появлялся на публике, принимал послов или участвовал в религиозных церемониях.
Обязанностью Главного камергера было будить монарха и обеспечивать должное прислуживание во время трапез. Он носил золотой ключ на бедре, как и другие камергеры, которым было доверено одевать Его Величество. Главный альмонарий, ведающий раздачей милостыни, имел титул Патриарха Индий. Первый капеллан служил мессу, исповедник (иногда францисканец, иногда августинец, порой иезуит) фактически являлся главным персонажем при дворе. Главный квартирмейстер ночью провожал короля к королеве. Кто-то обязательно был – "главным" в пекарне, в кладовой для фруктов, в погребе, в приготовлении соусов, да и на самой кухне. Это же касалось и конюшни.
Король обедал один в присутствии невооруженных придворных, почтительно обнажавших головы. С королевой он разделял трапезу только в праздничные дни.
Из соображений безопасности при дворе находилось не менее трех гвардий: голландская, испанская и немецкая. Двор королевы был организован примерно таким же образом, но менее пышно.
Ведение дел в Государственном совете отражало ритм жизни двора. Произнося свою речь, член Совета должен был встать, снять шляпу, преклонить колени и изложить суть дела. Если король соглашался, то произносил: «Да будет так», и члены Совета приподнимали шляпы. Если ему требовались дополнительные сведения, то он говорил: «Вы снова доложите мне»; собрание поднималось на ноги, а затем опускалось на колени. Когда король удалялся, все снимали шляпы и становились на одно колено.
Филипп II считал обязательным соблюдение церемониала в мельчайших деталях и, поступая так, полагал, что отвечает чаяниям своего народа. В результате обострялось чувство национальной гордости, а испанский характер становился жестким и высокомерным. Это проявлялось в маниакальной погони за титулами (сотни людей
присваивали себе титул «дон»), в ношении экстравагантной одежды, в эпистолярном стиле. Правила написания письма и печатания менялись в зависимости от моды.
Святая Тереза жаловалась на это в своей автобиографии: иногда поля должны были находиться справа, иногда слева; сегодня вы должны писать традиционные любезности в начале письма, а завтра в конце.
Характеру Филиппа соответствовали монастырь-дворец Эскориал, воздвигнутый вдали от светской жизни в 1584 году. Он был спланирован в форме решетки в память о мученичестве Святого Лаврентия, а в центре находилась часовня. Король лично наблюдал за работами и выбирал художников.
Рождество, Троицу, Страстную неделю и День всех святых Филипп II проводил в Эскориале. Последние пятнадцать лет своей жизни он чаще всего находился в маленькой Капелле Майор, из которой мог следить за все ми действиями священника во время службы. Король стремился заслужить высочайшую награду, дарованную его отцу Карлу V, которого приветствовала на небесах Святая Троица. На картине Эль Греко запечатлено это событие, и Филипп II был убежден в его истинности. Когда он лежал, умирая от тяжелой болезни, стоически перенося боль, то должен был чувствовать уверенность в том, что удостоится такой же чести, раскаиваясь лишь в том, что не истребил достаточное количество евреев, еретиков и неверных.
В результате продажи придворных должностей, вымогательств, инквизиции и конфискаций имущества мавров, знать богатела. С другой стороны, представители кабальерии, то есть рыцарского сословия, и идальгии, провинциальной знати, беднели, даже оставались без средств. Все они вели праздную жизнь, следствием которой явился застой в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Некоторые занимали командные должности в армиях, состоящих главным образом из наемников. Битвы и турниры оставались их любимыми развлечениями.
Веками длившиеся войны развили вкус к рыцарским романам, которые были в большой моде, даже в монастырях: сама Святая Тереза написала такой роман. Люди по-разному относились к таким произведениям: одних привлекало в них описание адюльтера, насмешка над общественными устоями; других, напротив, куртуазность и возвышенная страсть, рыцарство, благородство манер, поведение, продиктованное кодексом чести.
Особенно восхищались этим кодексом поведения, которому испанский сеньор весьма обязан своим престижем, во времена царствования Карла V, В 1528 году венецианец Балдассаре Кастильоне, епископ Авильский и фаворит императора, опубликовал руководство по любезному и вежливому обхождению под названием «Придворный». Эта книга предназначалась для молодежи и была переведена на несколько языков. Хотя подданные Филиппа II еще почитали его указания, но заинтересованы были скорее в собственной карьере, чем в искусстве жить. Сто лет спустя после «Придворного» появилась «Книга о придворном» Балтасара Грасиана, суховатое и искусно составленное произведение, рассчитанное на тщеславных людей, к концу XVI века оно вытеснило предыдущее руководство.
Нелепости рыцарского романа были высмеяны в романе Сервантеса «Дон Кихот» (1605). Автор этого шедевра мировой литературы был ветераном битвы при Лепанто, квартирмейстером, занимавшимся на флоте продовольственным снабжением. Свой роман он написал в возрасте пятидесяти восьми лет. К этому времени Сервантес успел побывать в алжирском плену, а затем и в испанской тюрьме.
В то время как знать упорно не желала отказываться от своего тщеславия и чванства, постепенно появилась и начала крепнуть буржуазия. Крестьяне, не желавшие жить в деревне, стремились стать горожанами. Беспрестанные сражения на турнирах мало способствовали занятиям сельским хозяйством, и обширные угодья дворян обрабатывались плохо. Огромной стала «испанская пустыня», но города процветали. В 1600 году в Мадриде насчитывалось 200 тысяч жителей. Севилья, город-порт, где выгружали золото из Нового Света, разрастался еще быстрее. На смену строгости и простоте предыдущих времен пришла показная роскошь и хвастовство, а церковь оказалась бессильна в противостоянии моральному разложению жителей городов, ставших большими перекрестками международной торговли.
В Севилье, пристанище бродяг и повес всякого рода, атмосфера была сродни преддверию ада, как отмечает Святая Тереза. В этом городе она чувствовала себя такой «малодушной и взвинченной», что едва узнавала саму себя. Суд, чиновников и даже агентов инквизиции-всех можно было купить. Верхушка общества наслаждалась жизнью сполна. Женщины тратили огромные суммы на наряды. Мужчины вели себя не менее легкомысленно. «Это женоподобные куклы без признаков добродетели или мужского характера, — писал брат Хуан де Лое Анхелес. Они красятся и наряжаются, перемещаются в портшезах и прихорашиваются перед зеркалом. Скоро они будут носить у пояса прялки, так как явно устали от шпаг».
В этой Испании, также строго разделенной на касты, как Индия, было очень много «нежелательных людей». Здесь еще оставалось около 50 тысяч евреев, видная элита — в том числе много врачей, ученых и торговцев, — подвергавшаяся постоянным преследованиям.
Морисков оказалось еще больше (почти 400 тысяч). Это были потомки тех мавров, которых с 1492 года насильно обращали в католическую веру. Они исповедовали мудехарский культ, в котором арабский язык был заменен латинским (ритуал до сих пор проводится в одной из часовен собора в Севилье). Фактически такое положение часто было всего лишь видимостью принятия христианства, а на самом деле в Андалузии и Валенсии целые деревни исповедовали обе религии. Мориски играли важную роль в экономической жизни страны, что, однако, не защитило их от преследований. Они не раз поднимали мятежи и какое-то время даже держали под контролем самого короля. Дон Хуан Австрийский был вынужден прийти к выводу, что, укротить их трудно. В 1609 году Филипп III изгнал морисков из страны, обусловив этим ее разорение.
Были и другие парии: цыгане, рабы из земель «неверных» и, наконец, нищие, число которых росло по мере того, как приходило в упадок сельское хозяйство. Иностранные путешественники с удивлением взирали на них. На фоне огромных состояний, сосредоточенных в руках церкви и католического короля, самых богатых в мире, росло число этих несчастных людей.
Часто считается, что религиозный гнет препятствует художественному и интеллектуальному развитию, однако на примере Испании и это правило не подтверждается. В Испании существовало около тридцати университетов: в одном из них — университете Саламанки — было не менее 70 профессоров и 7,8 тысячи учащихся; в Алкале 2 тысячи студентов изучали медицину. Замечательные результаты имелись на научном поприще. В медицине, минералогии, металлургии, горном деле, астрономии и офтальмологии Испания оказалась в авангарде прогресса. Рожете конструировал телескопы, а Деса де Вальдес в значительной степени усовершенствовал очки.
В области теологии блистали Бенито Ариас Монтано, Хуан Батиста Перес, Молина и Франциско Суарес. Историк Амбросио де Моралее первым стал подкреплять свое повествование доказательствами и документами. Может быть, именно под его влиянием Филипп II создал архив в Симанке и сделал следующее благородное заявление: «Авторы хроник и историки плохо информированы о государственных делах. Поэтому желательно собрать воедино все материалы, которые могли бы помочь им». Архив в Симанке существует до сих пор.
Своего расцвета достигли также юриспруденция, политические науки, литература (в лице Сервантеса и авторов плутовских романов). Художникам претили полуязыческие тенденции искусства Италии, восхищавшейся античностью и красотой форм. Испания разрабатывала христианскую эстетику, где линия менее важна, чем цвет. Испанские художники черпали силу и вдохновение у церкви, хотя иногда это приводило к монотонности и однообразию.
Эль Греко, хоть и родился на Крите, наилучшим образом передал эту характерную для испанской души смесь реализма, гордости и духовности. Никто не смог красноречивее передать драматическую атмосферу этой страны, которую Эль Греко узнал в сорок лет. Инквизиция упрекала его в нарушении канонического закона при изображении крыльев ангелов. Эль Греко с жаром защищал свою правоту, и ему выпала редкая удача убедить своих судей.
Многие знаменитые портретисты донесли до нас придворный стиль, который постепенно был принят в Париже и Лондоне, Вене и Флоренции: модель всегда стоит, опершись рукой о стол, либо о спинку кресла или даже о голову карлика.
В начале века костюм повторял контуры тела, но с течением времени стал чем-то вроде позорного столба, символом несгибаемой гордости. Камзол стал выглядеть, как кираса. Между тканью и подкладкой вставляли китовый ус и квадратные куски картона, чтобы придать костюму жесткость. С 1570 года ткань стали подбивать конским волосом. Каппа, испанский плащ, обычно, был коротким, с высоким воротником, но настолько широким, чтобы им можно было прикрывать парадный костюм. Поверх тканых чулок носили очень короткие штаны с подбитыми уплотнительным материалом буфами почти круглой формы, причем ткань подкладки была видна сквозь прорези. Шляпы делали высокими и объемными; а рукояти шпаг имели гарду в форме корзины.
Женщины носили прямые лифы, жесткость которым придавали китовый ус и проволока, что не допускало и намека на естественный изгиб тела. Юбку поддерживали тростниковые обручи. Тростниковая полоса называлась «вердуго». Длина платья доходила до пола.
«У королевы Испании нет ног», — сообщил Главный камергер юной Елизавете Валуа, третьей жене Филиппа II. Та пришла в ужас, думая, что королеве грозит ампутация. Придворные дамы бесшумно скользили по полу, перемещаясь с места на место, сейчас на это способны только танцовщицы русских фольклорных ансамблей. Остается только удивляться, каким чудом тридцать из них умудрялись прислуживать королеве на коленях, когда Ее Величество сидела за столом.
Плащи бывали и очень длинными, со складкой на спине, а в те, что носили представители буржуазии, можно было закутаться полностью. Жабо вокруг шеи, которые носили и мужчины, и женщины, делались из тюля с кружевной оторочкой. До 1600 .года они становились все больше и больше. Волосы гладко зачесывали назад, поднимали в высокую прическу и украшали драгоценными камнями. Любимым цветом у мужчин и женщин был черный.
Такой для последующих поколений представлялась испанская мода, завоевавшая всю Европу, за исключением Венеции. И даже когда англичане и французы переросли ее, испанцы все еще выглядели сторонниками хорошего стиля. Свадьба Людовика XIV и инфанты Марии-Терезии, подтвердившая конец превосходства Испании, стала свидетельством последней победы испанской моды. Король католического мира и гранды в черном бархате с орденами Золотого руна презрительно оттеснили завоевавших их нуворишей нелепых французских щеголей в пышных нарядах, обильно украшенных драгоценностями, кружевами и перьями.
[ Home | Update Journal | Login/Logout | Search | Account | Site Map ]